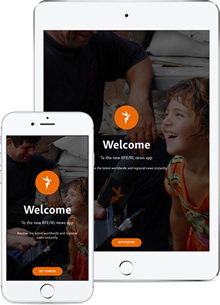Ренате Лахманн. Дискурсы фантастического / Перевод с немецкого. - М.: Новое литературное обозрение, 2009. - 384 с., ил. - (Научное приложение. Вып. LXXIX).
Немецкая славистка, профессор Констанцского университета Ренате Лахманн, известная русскому читателю изданной у нас девять лет назад книгой "Демонтаж красноречия", на сей раз демонтирует - весьма широко понятую - фантастику. Она занимается "фантастическим" не столько как жанром (этим, пожалуй, даже в последнюю очередь), сколько как видением мира, типом работы со смысловым материалом, которые гораздо шире любого жанра и прорастают в разные. Фантастика, собственно, неспроста так поздно - лишь начиная с конца XVIII - первой трети XIX века - стала оформляться ("этаблироваться", как изящно передал это на русском языке переводчик соответствующей главы) в отдельный жанр и только в ХХ веке более-менее окончательно в него оформилась (даже в два: научную фантастику и фэнтези). Впрочем, ограничиться их рамками она не смогла и тогда: фантастическое - как отношение к жизни - слишком разлито в человеческой природе, чтобы вписываться хоть в какие-то рамки, а от сущности литературы так и вовсе не отделимо.
Поэтому рамки (они же - своего рода силки для уловления фантастического) приходится строить искусственно. Вот этими-то рамками, принципами их устройства и крепления и занимается Лахманн в своей книге.
При этом фантастика занимает её, пожалуй, в первую очередь как антропологический принцип (и лишь вследствие этого – как форма литературного поведения); как область альтернативных смыслов, "неожиданных, спекулятивных проектов". Принадлежащие к сути фантастического "трансформации, мутации, изменения, происходящие внезапно или протяжённые во времени, - пишет Лахманн, - эти излюбленные приёмы литературной фантастики указывают на нестабильность, непостоянство человеческой души и тела, а в экстремальных случаях и вовсе переворачивают личностную идентичность с ног на голову". Да её ли одну!
Фантастика - область зыбкости человеческих границ: одна из "привилегированных" областей, в которых эта зыбкость испытывается. Даже, пожалуй, культивируется. "Потрясение основ существующего порядка" и "инверсия актуальных представлений о природе человека" для фантастики - совершенно обыденное, даже рутинное дело. Она, в общем-то, для этого и заведена. Она - существенно необходимая всякой культуре лаборатория Иного. А в литературу перемещается, пожалуй, тогда, когда иные источники Иного (точнее - восприимчивость к ним) в соответствующей культуре скудеют.
Меж тем человек - с его "неописываемостью" - вообще, по мысли Лахманн, прямо-таки провоцирует (самого себя) на фантастическое. Оно неспроста "выходит за границы антропологических будней и предлагает себя в качестве мета- или даже протоантропологии": человеку потребны альтернативные концепции себя и мира буквально как воздух. Без этого любой культуре будет попросту нечем дышать и некуда расти. В принципе из рефлексии над природой фантастического можно было бы вырастить полноценную антропологическую концепцию (о культурологической - и не говорю). Автор иной раз буквально балансирует на грани этой задачи - однако в конце концов всё-таки не соблазняется ею, ограничиваясь только литературными вопросами.
Задачи создания всеохватывающей, систематической теории фантастики в литературе Лахманн себе, впрочем, тоже не ставит. Лишь вскользь касаясь глубоких, уходящих в древность корней фантастического, она пишет о том, какие формы оно принимает в европейской и русской литературе последних двух-трёх веков - в основном двух: XIX-го и XX-го, с небольшими экскурсами в XVIII-й - и как с этими формами - расшатывающими освоенные границы человеческого - справляются традиционные и нововозникающие риторические средства.
Книга (несомненно представляющая собой целое, - и очень нуждающаяся, по моему чувству, в некотором заключительном, синтезирующем тексте по итогам проделанной в ней работы) строится как принципиально разомкнутая цепь нежёстко связанных между собою статей-глав о разных областях и аспектах фантастического. О "чарах тайного знания", о "вторжении фантазма в реализм", о городе как области фантастического дискурса... И даже о такой экзотической вещи, как "фантазм письма и буквы" (в случае Акакия Акакиевича, чтоб вы знали, самое фантастичное, оказывается, - не то, что он после смерти с прохожих шинели срывал, а его отношения с буквами). В принципе, каждая из намеченных здесь смысловых линий – и вся "цепь" в целом - способна быть доращенной до гораздо большей последовательности и систематичности.
Профессионалам-филологам, понятно, будет интересно, как скрупулёзно автор препарирует разные варианты внедрения фантастического в тело литературы. А вот досужий читатель (прекрасно способный, к счастью, уживаться с профессионалом-гуманитарием в одном лице!), пользуясь нечёткостью поставленных самому себе читательских задач, непременно выберется из этой книги с преизрядным количеством внутренних вопросов об устройстве человека и его отношений с реальностью. И примется над этими вопросами думать. Чего и вам желает!
Немецкая славистка, профессор Констанцского университета Ренате Лахманн, известная русскому читателю изданной у нас девять лет назад книгой "Демонтаж красноречия", на сей раз демонтирует - весьма широко понятую - фантастику. Она занимается "фантастическим" не столько как жанром (этим, пожалуй, даже в последнюю очередь), сколько как видением мира, типом работы со смысловым материалом, которые гораздо шире любого жанра и прорастают в разные. Фантастика, собственно, неспроста так поздно - лишь начиная с конца XVIII - первой трети XIX века - стала оформляться ("этаблироваться", как изящно передал это на русском языке переводчик соответствующей главы) в отдельный жанр и только в ХХ веке более-менее окончательно в него оформилась (даже в два: научную фантастику и фэнтези). Впрочем, ограничиться их рамками она не смогла и тогда: фантастическое - как отношение к жизни - слишком разлито в человеческой природе, чтобы вписываться хоть в какие-то рамки, а от сущности литературы так и вовсе не отделимо.
Поэтому рамки (они же - своего рода силки для уловления фантастического) приходится строить искусственно. Вот этими-то рамками, принципами их устройства и крепления и занимается Лахманн в своей книге.
При этом фантастика занимает её, пожалуй, в первую очередь как антропологический принцип (и лишь вследствие этого – как форма литературного поведения); как область альтернативных смыслов, "неожиданных, спекулятивных проектов". Принадлежащие к сути фантастического "трансформации, мутации, изменения, происходящие внезапно или протяжённые во времени, - пишет Лахманн, - эти излюбленные приёмы литературной фантастики указывают на нестабильность, непостоянство человеческой души и тела, а в экстремальных случаях и вовсе переворачивают личностную идентичность с ног на голову". Да её ли одну!
Фантастика - область зыбкости человеческих границ: одна из "привилегированных" областей, в которых эта зыбкость испытывается. Даже, пожалуй, культивируется. "Потрясение основ существующего порядка" и "инверсия актуальных представлений о природе человека" для фантастики - совершенно обыденное, даже рутинное дело. Она, в общем-то, для этого и заведена. Она - существенно необходимая всякой культуре лаборатория Иного. А в литературу перемещается, пожалуй, тогда, когда иные источники Иного (точнее - восприимчивость к ним) в соответствующей культуре скудеют.
Меж тем человек - с его "неописываемостью" - вообще, по мысли Лахманн, прямо-таки провоцирует (самого себя) на фантастическое. Оно неспроста "выходит за границы антропологических будней и предлагает себя в качестве мета- или даже протоантропологии": человеку потребны альтернативные концепции себя и мира буквально как воздух. Без этого любой культуре будет попросту нечем дышать и некуда расти. В принципе из рефлексии над природой фантастического можно было бы вырастить полноценную антропологическую концепцию (о культурологической - и не говорю). Автор иной раз буквально балансирует на грани этой задачи - однако в конце концов всё-таки не соблазняется ею, ограничиваясь только литературными вопросами.
Задачи создания всеохватывающей, систематической теории фантастики в литературе Лахманн себе, впрочем, тоже не ставит. Лишь вскользь касаясь глубоких, уходящих в древность корней фантастического, она пишет о том, какие формы оно принимает в европейской и русской литературе последних двух-трёх веков - в основном двух: XIX-го и XX-го, с небольшими экскурсами в XVIII-й - и как с этими формами - расшатывающими освоенные границы человеческого - справляются традиционные и нововозникающие риторические средства.
Книга (несомненно представляющая собой целое, - и очень нуждающаяся, по моему чувству, в некотором заключительном, синтезирующем тексте по итогам проделанной в ней работы) строится как принципиально разомкнутая цепь нежёстко связанных между собою статей-глав о разных областях и аспектах фантастического. О "чарах тайного знания", о "вторжении фантазма в реализм", о городе как области фантастического дискурса... И даже о такой экзотической вещи, как "фантазм письма и буквы" (в случае Акакия Акакиевича, чтоб вы знали, самое фантастичное, оказывается, - не то, что он после смерти с прохожих шинели срывал, а его отношения с буквами). В принципе, каждая из намеченных здесь смысловых линий – и вся "цепь" в целом - способна быть доращенной до гораздо большей последовательности и систематичности.
Профессионалам-филологам, понятно, будет интересно, как скрупулёзно автор препарирует разные варианты внедрения фантастического в тело литературы. А вот досужий читатель (прекрасно способный, к счастью, уживаться с профессионалом-гуманитарием в одном лице!), пользуясь нечёткостью поставленных самому себе читательских задач, непременно выберется из этой книги с преизрядным количеством внутренних вопросов об устройстве человека и его отношений с реальностью. И примется над этими вопросами думать. Чего и вам желает!