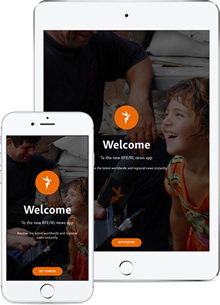Авангард и идеология: Русские примеры. – Белград: Издательство филологического факультета Белградского университета, 2009. – 712 с.
Похоже, к основным условиям этого гигантского совместного интеллектуального предприятия учёных разных стран – результаты которого воплотились в более чем 700-страничном и даже многоязыком томе – принадлежало отсутствие согласия по основным вопросам: что такое авангард и что такое идеология.
Что под ними понимать – вовсе не так очевидно, как может показаться. Оба этих понятия, ключевых для сборника, здесь переопределяются – кстати, и расширяются – буквально на ходу.
Всё просто лишь на первый взгляд. Каковы были – задаются вопросом все авторы сборника - взаимоотношения русских авангардистов начала ХХ века с современной им политикой, точнее – с победителями-большевиками? В какой мере оказалось неизбежным упорное стремление художников-бунтарей сотрудничать с теми, кто их же в конечном счёте и погубил?
Едва интеллектуалы из США, Голландии, Швейцарии, Израиля, России, Сербии, Черногории, Польши, Италии, Франции, Германии и даже Японии начинают это выяснять, тут же оказывается, что каждый из них видит предмет разговора по-своему. Трудно даже сказать, какое понятие в сборнике оказывается более спорным: "идеологии" или "авангарда". В отношении каждого из них здесь представлено чуть ли не сколько же пониманий, столько и самих авторов.
Лишь немногие из участников сборника, - например, Ханс Гюнтер (Германия) или наши соотечественники Валерий Мароши, Моника Спивак, Дмитрий Токарев – не проблематизируют понятия "идеологии", по умолчанию отождествляя с нею просто совокупность идей и ценностей, чаще всего тех, что относятся к политике. Денис Иоффе посвящает значительную часть своего текста анализу того, что такое "идеологическое" (и приходит ещё не к самому неожиданному из выводов: это, говорит он, – "руководящий кодекс действования, <…> система средств, приводящая в движение общественную природу жизни человека"). Владимир Фещенко – следуя В.Н. Волошинову и П.Н. Медведеву – видит в нём "синоним семиотического, знакового вообще".
Наталья же Фатеева вовсе освобождает слово "идеология" от политических обертонов. Она предлагает вернуться к пониманию этого предмета одноименным философским течением эпохи Великой французской революции, "основное внимание которого было сосредоточено на проблеме "Идеи и знаки"". Подобно тому, как французские идеологи стремились понять "влияние знаков на формирование идей", наша современница рассматривает опыты авангардистов с "метаграфемикой": шрифтом, пунктуацией, цветом, расположением слов на странице… Все эти "способы и средства организации письменного текста" только на первый взгляд, утверждает она, дополнительны "по отношению к простой фиксации на письме <…> вербального сообщения". На самом деле они "определяют семиотизацию и структуризацию смысла этого сообщения" - графика становится не просто знаком идей, но прямо-таки их воплощением.
На этом основании, кстати, в сферу рассуждения здесь втягиваются авангардисты наших дней - "трансфуристы", "неофутуристы" и отдельно, вне групп, стоящие Г. Айги и Е. Мнацаканова, а в качестве практик – компьютерная организация текста и перформансы, и разные опыты интертекста. Всех их объединяет, считает автор, отношение к метаграфемике как к средству создания нового поэтического языка - "способа нового мышления", перестройки "языка на всех уровнях" и вообще подрыва всех его мыслимых устойчивостей, чтобы в конце концов образовать "новые связи между знаками".
Читатель уже чувствует, что с "авангардом" тоже не всё просто. Как, в самом деле, стоит проводить его границы? Об этом в сборнике впервые заговаривает Владимир Фещенко. Он обращает внимание на то, что "общепринятого толкования" термина "авангард" попросту нет. Нет даже "ограниченного набора признаков", по которым можно было бы уверенно "классифицировать или верифицировать то или иное явление как "авангардное"".
Тут как раз приходит на помощь концепт "идеологии" - во волошинско-медведевско-бахтинском смысле. "Авангард", считает Фещенко – это прежде всего "тип мышления", а вследствие того - и культурного действия. Как таковой, он - явление "надстилевое". Настолько, что должен быть в принципе выведен из "искусствоведческого и культурологического оборота в более обширный контекст идеологического творчества", включающего в себя философию, социологию, эстетику, семиотику, лингвистику...
Интересное видение авангарда предлагает Ирина Антанасиевич. Это, считает она (подчёркивая тем самым глубокую вторичность эстетических ценностей и практик) - "реакция художественно-эстетического сознания <…> на глобальный перелом в культурно-цивилизационных процессах". "Система символических посредников", которые позволяют человеку этот перелом пережить, служат ему "средствами внутренней регуляции" и в этом отношении сродни фольклору. И вообще она солидаризируется с о. П. Флоренским, считавшим, что авангард – вовсе никакое не искусство, а, скорее, "магическая техника", "магические машины".
Такое видение, кажется, отчасти родственно позиции Нины Гурьяновой. Пресловутую политизацию авангарда она вообще находит вторичной, спровоцированной извне. Правда, предпосылки этого были уже в раннем авангарде. А именно – изначально сильный этический заряд. Это он определил установку на радикальное переделывание "внехудожественной" реальности художественными средствами. "В раннем авангарде, - пишет Гурьянова, - ответственность художника заключается в том, чтобы "без конца тревожить сон ленивых" (Розанова), "будить" творческое начало в зрителе, "бить по нервам привычки" (Кручёных)…"
Ключевое слово здесь – "ответственность". Она даже важнее, чем вывод сознания из автоматизмов, разрушение старых связей и создание новых.
Поэтому-то в книге очень недостаёт – синтезирующего, обобщающего - разговора об этическом начале в авангарде. Даже - об общих корнях искусства и политики, эстетики и демиургии. О формирующей работе с реальностью, которая определила и возможность сотрудничества художников с политиков, и полную – гибельную - его немыслимость.
Похоже, к основным условиям этого гигантского совместного интеллектуального предприятия учёных разных стран – результаты которого воплотились в более чем 700-страничном и даже многоязыком томе – принадлежало отсутствие согласия по основным вопросам: что такое авангард и что такое идеология.
Что под ними понимать – вовсе не так очевидно, как может показаться. Оба этих понятия, ключевых для сборника, здесь переопределяются – кстати, и расширяются – буквально на ходу.
Всё просто лишь на первый взгляд. Каковы были – задаются вопросом все авторы сборника - взаимоотношения русских авангардистов начала ХХ века с современной им политикой, точнее – с победителями-большевиками? В какой мере оказалось неизбежным упорное стремление художников-бунтарей сотрудничать с теми, кто их же в конечном счёте и погубил?
Едва интеллектуалы из США, Голландии, Швейцарии, Израиля, России, Сербии, Черногории, Польши, Италии, Франции, Германии и даже Японии начинают это выяснять, тут же оказывается, что каждый из них видит предмет разговора по-своему. Трудно даже сказать, какое понятие в сборнике оказывается более спорным: "идеологии" или "авангарда". В отношении каждого из них здесь представлено чуть ли не сколько же пониманий, столько и самих авторов.
Лишь немногие из участников сборника, - например, Ханс Гюнтер (Германия) или наши соотечественники Валерий Мароши, Моника Спивак, Дмитрий Токарев – не проблематизируют понятия "идеологии", по умолчанию отождествляя с нею просто совокупность идей и ценностей, чаще всего тех, что относятся к политике. Денис Иоффе посвящает значительную часть своего текста анализу того, что такое "идеологическое" (и приходит ещё не к самому неожиданному из выводов: это, говорит он, – "руководящий кодекс действования, <…> система средств, приводящая в движение общественную природу жизни человека"). Владимир Фещенко – следуя В.Н. Волошинову и П.Н. Медведеву – видит в нём "синоним семиотического, знакового вообще".
Наталья же Фатеева вовсе освобождает слово "идеология" от политических обертонов. Она предлагает вернуться к пониманию этого предмета одноименным философским течением эпохи Великой французской революции, "основное внимание которого было сосредоточено на проблеме "Идеи и знаки"". Подобно тому, как французские идеологи стремились понять "влияние знаков на формирование идей", наша современница рассматривает опыты авангардистов с "метаграфемикой": шрифтом, пунктуацией, цветом, расположением слов на странице… Все эти "способы и средства организации письменного текста" только на первый взгляд, утверждает она, дополнительны "по отношению к простой фиксации на письме <…> вербального сообщения". На самом деле они "определяют семиотизацию и структуризацию смысла этого сообщения" - графика становится не просто знаком идей, но прямо-таки их воплощением.
На этом основании, кстати, в сферу рассуждения здесь втягиваются авангардисты наших дней - "трансфуристы", "неофутуристы" и отдельно, вне групп, стоящие Г. Айги и Е. Мнацаканова, а в качестве практик – компьютерная организация текста и перформансы, и разные опыты интертекста. Всех их объединяет, считает автор, отношение к метаграфемике как к средству создания нового поэтического языка - "способа нового мышления", перестройки "языка на всех уровнях" и вообще подрыва всех его мыслимых устойчивостей, чтобы в конце концов образовать "новые связи между знаками".
Читатель уже чувствует, что с "авангардом" тоже не всё просто. Как, в самом деле, стоит проводить его границы? Об этом в сборнике впервые заговаривает Владимир Фещенко. Он обращает внимание на то, что "общепринятого толкования" термина "авангард" попросту нет. Нет даже "ограниченного набора признаков", по которым можно было бы уверенно "классифицировать или верифицировать то или иное явление как "авангардное"".
Тут как раз приходит на помощь концепт "идеологии" - во волошинско-медведевско-бахтинском смысле. "Авангард", считает Фещенко – это прежде всего "тип мышления", а вследствие того - и культурного действия. Как таковой, он - явление "надстилевое". Настолько, что должен быть в принципе выведен из "искусствоведческого и культурологического оборота в более обширный контекст идеологического творчества", включающего в себя философию, социологию, эстетику, семиотику, лингвистику...
Интересное видение авангарда предлагает Ирина Антанасиевич. Это, считает она (подчёркивая тем самым глубокую вторичность эстетических ценностей и практик) - "реакция художественно-эстетического сознания <…> на глобальный перелом в культурно-цивилизационных процессах". "Система символических посредников", которые позволяют человеку этот перелом пережить, служат ему "средствами внутренней регуляции" и в этом отношении сродни фольклору. И вообще она солидаризируется с о. П. Флоренским, считавшим, что авангард – вовсе никакое не искусство, а, скорее, "магическая техника", "магические машины".
Такое видение, кажется, отчасти родственно позиции Нины Гурьяновой. Пресловутую политизацию авангарда она вообще находит вторичной, спровоцированной извне. Правда, предпосылки этого были уже в раннем авангарде. А именно – изначально сильный этический заряд. Это он определил установку на радикальное переделывание "внехудожественной" реальности художественными средствами. "В раннем авангарде, - пишет Гурьянова, - ответственность художника заключается в том, чтобы "без конца тревожить сон ленивых" (Розанова), "будить" творческое начало в зрителе, "бить по нервам привычки" (Кручёных)…"
Ключевое слово здесь – "ответственность". Она даже важнее, чем вывод сознания из автоматизмов, разрушение старых связей и создание новых.
Поэтому-то в книге очень недостаёт – синтезирующего, обобщающего - разговора об этическом начале в авангарде. Даже - об общих корнях искусства и политики, эстетики и демиургии. О формирующей работе с реальностью, которая определила и возможность сотрудничества художников с политиков, и полную – гибельную - его немыслимость.