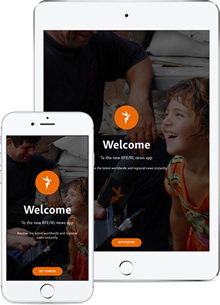В декабре 1960 года потомок русских эмигрантов Константин Пио-Ульский принимал американское гражданство. Судья, внимательно посмотрев документы, по слогам прочитал фамилию "Пио-Ульский", а затем сказал: “Молодой человек, я хочу серьезно предложить вам поменять фамилию или хотя бы убрать из нее дефис. У вас в жизни будет много проблем”. Когда Константин Пио-Ульский ответил отказом, американский судья настоял на убедительных объяснениях. И тогда 25-летний молодой человек рассказал невероятную историю о том, как в 1941 году в Югославии маленький дефис в знатной фамилии спас жизнь не только его отца, но и еще 15 русских офицеров.
Константин Пио-Ульский - последний представитель древнего рода. Он родился на Балканах, после Второй мировой войны учился на инженера-механика в Норвегии, там же научился играть на балалайке. Уже в Америке, благодаря виртуозному владению музыкальным инструментом, Константин сначала попал в бродвейское шоу, а затем свел знакомства со многими звездами Голливуда и Бродвея, а также фигурами мировой политической сцены. Некоторые из них впоследствии стали его друзьями: основатель американского балета Джордж Баланчин, знаменитый русский художник Михаил Вербов, лорд Сноуден (Энтони Армстронг Джонс) – муж принцессы Маргарет, сестры британской королевы Елизаветы II, виртуоз-гитарист Андре Сеговия... Потомок русских эмигрантов Константин говорит на красивом, немного старомодном русском языке:
– В юности мне пришлось жить и учиться в пяти странах на пяти языках. Русский в семье был всегда. Конечно, он немножко звучит иначе, чем у вас, людей, живущих в России. Например, никто из вас сегодня не скажет. "Третьего дня у меня было то-то..."
– Но в этом есть своя прелесть…
– Для вас да, а для нас это часть нашей жизни.
– В семье с вами говорили исключительно по-русски?
– Я вырастал с двумя языками – сербским и русским.
– Но вы впервые приехали в Россию, а точнее в СССР, когда вам было уже за 50. Как вам удалось сохранить язык страны, где вы до того ни разу не были?
– Все очень просто. Мои родители покинули Россию в 1920 году, вместе с Врангелем, из Крыма, с последними кораблями, которые вывозили белых русских офицеров. Они отправились в сторону Турции, на полуостров Галлиполи.
– Почему именно в Галлиполи?
– Никто из этих русских не хотел далеко уезжать от России, они надеялись, что произойдет переворот, и родина снова будет в их руках. Увы, этого не случилось.
– Но вы родились в Белграде.
– Да, и для того, чтобы объяснить, как мы попали в Белград, я должен вернуться в своем рассказе в дореволюционное время. Мой дедушка по отцу, Георгий Николаевич Пио-Ульский, был не только адмиралом царского флота, но и очень известным ученым. Дедушка преподавал одновременно в разных университетах в России, в Германии, во Франции, в Испании, в Швейцарии. Почему я начал с дедушки? Потому что в начале ХХ столетия одним из его учеников был молодой человек, которого звали Александр Карагеоргиевич. И спустя какое-то время этот самый Александр стал королем Югославии. Дед был одним из любимых учителей будущего короля. И часто Александр не уезжал домой во время каникул, а жил у дедушки в доме на Каменном острове в Петербурге. Когда в России произошла революция, Александр пригласил моего деда переехать в Сербию и быть одновременно советником короля и преподавателем Белградского университета.
– Расскажите о ваших родителях.
– Моя мама, Александра Николаевна Есеновская, и ее старшая сестра Ольга были сестрами милосердия. Причем маме было всего 17 лет, и она была самой юной сестрой милосердия в армии Корнилова. Генерал Кутепов лично дал клятву моей бабушке – маминой матери, что с ее дочерьми ничего плохого не случится. И мой отец, и его старший брат, и моя мама, и моя тетя участвовали в Первом Кубанском (Ледяном) походе. Я помню, мама рассказывала, что однажды она везла телегу с ранеными, на них напал взвод красноармейцев, и командир приказал расстрелять всех раненых. Тогда моя мать спрыгнула с телеги, подошла к нему и говорит: "Какое ты имеешь право отдавать такой приказ? Это раненые, а раненых не расстреливают. Пропусти!" Красный командир опешил, отошел в сторону, и телега с ранеными проехала.
Провожая моего отца, он сказал: "Будьте благодарны тому немецкому солдату, который при аресте записал вашу фамилию правильно"
– Ваши родители познакомились во время Первого Ледяного похода?
– Нет. Мои родители встретились уже в Галлиполи и там же поженились. Генерал Кутепов был посаженным отцом матери, а мой будущий отчим Викентий Иванович Гетц пел во время венчания. Много лет спустя я был в круизе и подружился с капитаном корабля. Теплоход направлялся из Стамбула в Афины, и я спросил капитана: "Когда мы будем проходить Галлиполи?" Он сказал: "Приблизительно в половине шестого утра. А зачем вам такая информация?" Я говорю: "Потому что мои родители познакомились и поженились на этом полуострове". Жизнь в Галлиполи у них была очень сложная, почти все жили в землянках. Белые провели в Галлиполи целый год и стали медленно разъезжаться. Кто-то во Францию, кто-то в Маньчжурию, в Харбин… Но поскольку мой дедушка Георгий Николаевич уже к тому времени был в Белграде, то мои родители, как и несколько сотен белых русских офицеров и их семей, через Болгарию приехали в Югославию. Я родился в Белграде 12 апреля 1935 года.
– И там же вы пошли в школу…
– Конечно, в Белграде, вместе с прибытием русских эмигрантов появился Русский дом. Там был не только театр, но еще и основная школа. И вот в сентябре 1941 года я пошел в первый класс основной школы.
– То есть Вторая мировая война уже началась. Если я не ошибаюсь, немцы бомбили Белград в начале апреля 1941 года.
– Мне тяжело говорить об этом. Одна из первых бомб, которые упали на Белград, попала в наш дом. Мы во время бомбежки находились в погребе. Дом рухнул, и мы оказались под обломками. Нас откапывали более трех дней. Друг моих родителей, которого я звал дядя Миша, снимал у нас комнату. Он тоже был с нами в погребе, когда дом рухнул, он лежал рядом со мной, мертвый, в течение трех дней. Все это время, пока нас осторожно откапывали, чтобы нас совсем не завалило, моя мама держала мою руку. В один день мои родители потеряли все. То, что было у них в доме, было уничтожено, банк, в который отец пошел за деньгами, тоже был разрушен. Друзья помогли найти маленькую квартирку в центре Белграда: одна спальня, маленькая гостиная, кухня и ванная. Мы туда переехали.
Не прошло и трех недель, вдруг в воскресенье утром стук в дверь, несколько солдат и офицер с винтовками приказывают моему отцу одеться и забирают его. Спустя несколько дней никаких известий, ничего. Потом пришла мамина знакомая и сказала, что и ее мужа забрали тоже. Всего было арестовано 17 русских белых офицеров. За каждого немца, который был подстрелен на улицах Белграда, немцы расстреливали десятки арестованных. Каждое утра мама брала меня, и мы часами стояли перед тюрьмой, как и сотни других людей. Так продолжалось несколько недель. Однажды утром маме нездоровилось, и мы с ней не пошли к тюрьме. Вдруг открылась дверь, и вошел мой отец. Он просто рухнул на пол и стал рыдать. Когда он отошел немного, то сказал: "Сегодня произошло чудо!"
Он рассказал, что двоих русских офицеров расстреляли, и он был третьим. Немецкий майор, который руководил расстрелом, отлично говорил по-сербски. И когда мой отец подошел, он спросил его имя и фамилию. "Антоний Пио-Ульский", – ответил мой отец. Он заглянул еще раз в список и сказал: "У меня был профессор с такой фамилией". Мой отец ответил: "Ваш профессор – это мой отец". Тогда этот майор спросил: "А что вы здесь делаете?" – "За то время, что я мои друзья находимся здесь, вы первый, кто задает нам этот вопрос. Вы только что расстреляли двух моих друзей, и нас, 15 человек, ожидает та же участь". Немецкий майор остановил расстрел, ушел в здание, а через несколько минут вернулся и с улыбкой произнес: "Вы свободны!" Когда он провожал их к воротам тюрьмы, то положил руку на плечо моего отца и сказал: "Будьте благодарны тому немецкому солдату, который при аресте записал вашу фамилию правильно, через дефис, потому что если бы она была без дефиса, я бы никогда в жизни не вспомнил, что такая же фамилия была у моего профессора". Назовите это судьбой, назовите чудом, но 15 человек выжили только благодаря маленькому дефису.
– А за что же все-таки арестовали вашего отца и его друзей?
– Намного позже мы узнали, что один русский белый офицер был женат на сербке, которая была коммунисткой. И когда пришли ее арестовывать, она сказала: "Отпустите меня и моего мужа, а я вам дам список других людей". И она дала список 17 русских офицеров, в котором был и мой отец.
После того, что произошло, отец был сломлен и, к сожалению, стал выпивать намного больше, чем было нужно. Я помню, год спустя мама меня посадила на стул и сказала следующее: "Котик, я буду разводиться с твоим отцом. Жизнь с ним становится невозможной. А ты у меня самый главный, о ком я должна заботиться". Приходили друзья и старались помирить моих родителей. Но мама все-таки развелась с отцом.
– Вы сказали, что в сентябре 1941 года пошли в школу в Белграде…
– Да, и поскольку в детский сад я не ходил, то в школе впервые оказался в детском коллективе.
– Сколько человек было в вашем классе?
– Не более 15–20, и почти все были на год или полтора старше меня. В классе были только мальчики. И вот однажды, через несколько недель после начала учебного года, в классную комнату вошла группа немцев. Они заставили нас всех встать на школьные парты и опустить штаны. Преподавательница объяснила, что это медицинский осмотр, чтобы мы не волновались. Конечно, никто из нас в этом возрасте ничего не понимал, но двух мальчиков немцы взяли с собой, и они больше никогда в школу не вернулись. Потом, став старше, мы поняли, что они проверяли, были ли мальчики обрезаны. Но был в этой ситуации и курьезный момент. Когда мы опустили штаны, у одного мальчика не оказалось того, что у всех у нас было… Это была девочка. Перед тем, как она поступила в школу, она переболела тифом, ей побрили голову, и все думали, что это мальчик Конечно, когда все это обнаружилось, ее перевели в класс к другим девочкам.
– Вторая мировая война – довольно страшная страница истории для белой эмиграции.
– То, что я вам сейчас расскажу, в сегодняшней России уже довольно известно, но об этой странице истории редко вспоминают.
Немцы оккупировали Югославию, и Гитлер, узнав, что сотни, если не тысячи русских белых офицеров и солдат жили на Балканах, а именно – в Сербии, в Болгарии, в Греции, в Румынии, предложил им присоединиться к немецкой армии, пообещав, что когда он завоюет Россию, они ему будут нужны. Офицеры белой армии, которые всегда мечтали, что коммунизм прекратит существовать в России и они смогут вернуться на родину, недолго думая, нацепили эту форму с надеждой, что в скором будущем их пошлют в Россию воевать с большевиками, с Красной армией. Проще говоря, им было все равно, какую форму надеть, лишь бы после 22 лет жизни за рубежом вернуться в Россию.
Увы, все мы знаем, что этого не произошло – немцы, конечно, обманули этих русских эмигрантов, и они на самом деле в Югославии воевали с титовцами, с югославскими партизанами. Я помню портрет Тито на улицах и стенах белградских зданий с назначенной за его голову суммой и надписью "Взять живым или мертвым". Среди тех белых офицеров, которые записались в вермахт, были мой отец и очень дорогой для меня человек – мой отчим Викентий Иванович Гетц. Его назначили командиром батальона, и он был отправлен служить в Косовску- Митровицу. Офицер русской императорской армии Викентий Иванович так же, как и мои родители, приехал из Галлиполи. После того как отец и мать расстались, моя мама вышла замуж за Викентия Ивановича, и он стал моим отчимом. Это произошло 24 июля 1944 года. К тому времени война для немцев выглядела не такой удачной, как они думали. Как члены семьи немецкого офицера мы должны были покинуть Югославию и переехать в Германию. Это было внезапно и совершенно неожиданно, мы с мамой попрощались с Викентием Ивановичем и поездом отправились в Белград. Нам дали немецкую машину, и маме дали всего полчаса, чтобы заехать на квартиру и взять только самое необходимое. Мы сели на поезд, и утром были уже в Вене.
После этого мы попали в город на юге Германии, который назывался Мантхаузен. В Мантхаузене были большого размера палатки, где стояли койки, по 60 в каждой. Напротив, приблизительно в 200 метрах от наших палаток, был лагерь для военнопленных. Однажды под утро мы услышали выстрелы. Как потом выяснилось, кто-то из военнопленных бежал из лагеря, и в качестве наказания всех положили на землю лицом вниз... Надо сказать, что тогда лил дождь и под ногами было грязное месиво. Тех, кто шевелился, расстреливали на месте, а те, кто боялся двинуться, задохнулись в этой грязи.
Мамина старшая сестра тетя Оля к тому времени уже находилась в Берлине, и когда маму спросили, куда бы она хотела поехать в Германии, то она, конечно, сказала, что в Берлин. Это была осень 1944 года. Школьный год начался, а у меня не было школы, куда бы я мог пойти учиться. Тогда муж маминой сестры нашел католическую монашку, которая жила в нескольких кварталах от нас. Я к ней приходил к 9 утра и находился там до 2 часов дня. Мария-Терезия, так ее звали, преподавала математику, географию, историю Германии и религию, конечно. Она говорила только по-немецки и на латыни, а я по-русски и по-сербски, но мы как-то хорошо понимали друг друга, и я очень быстро стал воспринимать немецкий язык.
– Каким образом?
– Вас немножко удивит, но она знала все песни, под которые маршировали немецкие солдаты, и в свое время я знал по крайней мере дюжину, если не больше немецких маршей. И через полтора-два месяца я стал очень неплохо говорить по-немецки. Однажды утром я, как обычно, пришел к 9 утра, Мария-Терезия говорит: "Сегодня мы будем заниматься только до 12, а потом я тебя отведу в одно место, это здесь недалеко, я уверена, тебе понравится". Она мне приготовила еду, я поел, и мы пошли. В довольно большом садике, окруженном четырьмя большими домами, были несколько взрослых в немецкой военной форме и, наверное, человек 25–30 таких же мальчиков, как и я. Всем нам выдали форму гитлерюгенда и маленькие деревянные винтовки. Конечно, мы все, мальчишки, уже себе представляли, что мы взрослые солдаты, военные, и для нас это было больше игрой, чем то, что немцы затеяли – вроде подготовки к будущей армии.
Прошло несколько недель, и нам сказали, что на следующий день мы будем участвовать в параде и, вполне возможно, придет Гитлер. Утром нас посадили в маленькие автобусы и отвезли на берлинскую площадь Александрплац. И действительно, через какое-то время появился Гитлер. Нам всем приказали просто стоять, руки по швам, головой не крутить и отвечать громко, если будет задан вопрос. Гитлер останавливался возле каждого мальчика. Он подошел ко мне и спросил: "Wo ist dein Vater?" ("Где твой отец?") – "In dem Krieg, mein Führer" ("На войне, мой фюрер"). Он меня похлопал по щеке и обратился с вопросом к мальчику, который стоял рядом со мной. Война уже подходила к концу, это был февраль 1945 года.
– Сколько вам было лет тогда?
– Почти 10.
– Ваши родители были хорошо знакомы с известными фигурами белой эмиграции, имена некоторых из них до сих пор произносятся с негативным оттенком...
– К нам на квартиру довольно часто приходили атаман Шкуро, он был казаком, и генерал Власов. Я помню, что когда взрослые справляли Новый, 1945 год, я сидел на коленях у генерала Власова. Он погладил меня по головке и сказал: "Котик, надеюсь, когда ты станешь взрослым, этого ужаса, который происходит сегодня, больше не будет и никогда не повторится". Позже, 7 января, при русской церкви в Берлине была устроена елка для детей, и у меня есть фотография, где Власов стоит среди нас.
Когда советские грузовики подъехали, Монтгомери их просто не пустил, нарушив все приказы Лондона
– Как вы оказались в Келлерберге?
– Это уже был конец февраля – начало марта 1945 года, и ходили слухи, что советская армия приближается к Берлину. Мама решила покинуть Берлин и двинуться на юг, в сторону Югославии. Когда мы приехали в город Линц, там было что-то вроде лагерного барака. Через несколько недель мы поездом поехали в Зальцбург, а после того как этот город оказался в американской зоне, мы узнали, что Русский корпус попал в плен к англичанам. В июле мама получила разрешение переехать из американской зоны в английскую, и мы приехали в Клагенфурт. Мы с папой жили на одной ферме, а мама с Викентием Ивановичем на другой. И так мы прожили до 1 ноября 1945 года, когда нас погрузили на грузовики и отвезли в лагерь в маленьком городке Келлерберг. Там была всего-навсего одна церковь и два здания. В бараке, куда нас направили, были голые стены, три маленькие печки стояли с трубой через потолок вверх, и три лампочки на весь барак, размером 20 метров в длину и метров 8 в ширину. Сначала это были просто ужасные условия и очень плохая еда.
– Сколько там находилось людей?
– По меньшей мере полторы-две тысячи. Это были военнопленные, которые попали в английскую зону. Был еще один лагерь, Лиенц. Там были главным образом казаки, которые тоже пошли с немцами, и среди них был генерал Краснов. Наверное, многие знают эту историю, когда англичане выдали всех белых офицеров Советам. Их печальная судьба тоже известна. Генерала Краснова отвезли в Москву и повесили на Лубянке, по-моему. А его сына Николая сослали в Сибирь. После десятилетней каторги он написал книгу "Незабываемое"…
– Давайте вернемся к Келлербергу…
– Да, условия были ужасающие, но, слава Богу, в лагере оказались люди очень образованные – интеллигенция, генералы, профессора университетов Москвы, Петербурга, которые покинули Россию после революции. И при том что пять лет, проведенные там, были очень сложные, нам, детям, очень повезло, потому что мы получили образование, манеры и уважение к людям, которого в настоящее время просто не существует. И я всегда, до конца моей жизни буду благодарен за то образование, которое я получил там.
– Вы уже сказали, что тех, кто оказался в Лиенце, англичане выдали Советскому Союзу. Почему одних – тех, кто был в Лиенце, выдали, а других – из лагеря Келлерберг – нет?
– Хороший вопрос, и ответ будет еще интереснее. Командир нашего лагеря в Келлерберге, его фамилия была Монтгомери, влюбился в одну из русских женщин из лагеря и женился на ней. И когда советские грузовики подъехали, он их просто не пустил, нарушив все приказы Лондона. Это тоже было чудо!
– После этого вы бывали в Келлерберге?
– В этом году мы вместе с моей женой Олей были. Я посетил эту поляну в 11-й раз. Я говорю – поляну, потому что ничего больше не осталось – горы вокруг, и эта поляна поросла травой. Единственное, что осталось под горой, небольшое кладбище. И мы очень благодарны австрийцам, у них есть "Черный крест" (не надо путать с Красным Крестом), и они смотрят за старыми кладбищами и могилами.
– После Келлерберга вы оказались в Норвегии. Каким образом вы туда попали?
– Сестра мамы, та самая тетя Оля из Берлина, уже жила в Осло. Она иногда присылала нам посылки, конечно, главным образом еду. Не знаю почему, но моя мать решила, что нам нужно покинуть лагерь и переехать в Норвегию.
– А это было возможно?
– К тому времени уже да. Тетя Оля прислала нам норвежскую визу. Я никогда не забуду взгляд моего отца, который прощался со мной, думая, что он меня больше никогда не увидит, и моего отчима, который покидал своих друзей – офицеров. Наша громадная ошибка была, что мы уехали в Норвегию, потому что через шесть месяцев лагерников начала принимать Америка.
– Кто помогал им, когда они приехали в Америку?
– Участвовал Толстовский фонд, участвовал Church World Service и такие люди, как Сергей Сергеевич Белосельский-Белозерский. Об этом человеке я должен обязательно сказать, потому что, во-первых, мой дедушка, живя в Петербурге, на Каменном острове, дружил с отцом Сергея Сергеевича и часто бывал во дворце на Невском проспекте. Потом Сергей Сергеевич был женат на очень богатой американке, которая, по слухам, дала ему в начале 30-х годов, по-моему, 32 миллиона долларов и сказала: "Делай что хочешь…" Его жена потом перешла в православие. Белосельский-Белозерский помогал Толстовскому фонду. Но в моей судьбе он сыграл особую роль – Сергей Сергеевич был спонсором моего приезда в Америку. Поскольку я родился в Югославии, и чтобы приехать в Америку, мне нужно было ждать визу семь лет, а я всего-навсего провел пять лет в Норвегии. Благодаря Сергею Сергеевичу для меня сделали исключение, и я приехал в Америку как сын к умирающему отцу.
– Ваш отец к тому времени уже жил в Соединенных Штатах?
– Да, но у людей, которые приехали сюда из лагеря Келлерберг, появились новые проблемы: как найти работу, как существовать. Мой отец был артиллеристом, он знал верховую езду и фехтование. Как вы понимаете, с такими профессиональными навыками найти работу в Америке было абсолютно нереально. У отца не было выхода, и он устроился на рыбную фабрику в Нью-Йорке и там полностью уничтожил свое здоровье. Когда я приехал, мой отец был при смерти, у него была грудная жаба, и он жил только на нитроглицерине. Доктор ему сказал: стоит один раз опоздать, и можно попрощаться с жизнью. Что и произошло. Он продолжал работать на очень известной всем русским эмигрантам спичечной фабрике по ночам – проверял все этажи и в восемь часов утра открывал двери фабрики для работников. Он чуточку опаздывал на работу, когда у него случился приступ, и поэтому не успел положить таблетку нитроглицерина под язык, открыл дверь, упал и скончался у двери этой фабрики. Ему было 62 года.
– Сколько вам было лет, когда вы приехали в Америку?
– Я прибыл сюда 1 августа 1955-го. Мне было 20 лет.
– У вас была какая-то специальность?
– Я получил среднее образование в Норвегии и поступил в университет, но окончить его не успел.
– А в Америке не пытались продолжить образование?
– Я не знал вначале английского языка, и это было очень сложно. Кроме того, я должен был содержать пятерых: мою мачеху, моего отца здесь, в Нью-Йорке, и мою мать и моего отчима в Норвегии. Так что у меня не было даже и намека на какую-либо учебу. К тому же меньше чем через два года меня взяли в американскую армию, где я прослужил два года. Я считаю, эти два года были лучшими в моей жизни. Оттуда началась моя карьера фотографа. Я летал на маленьком самолете и фотографировал маневры. Поэтому мне не нужно было никогда маршировать. Это существенно, потому, что летом в Техасе 40 градусов в тени. В армии я получил приз из рук Элвиса Пресли…
– За фотографии?
– Вовсе нет. В американской армии есть конкурс талантов. И тут я опять хочу вернуться к недолгому периоду жизни в Норвегии. Там был балалаечный оркестр, в котором на басу играл мой двоюродный брат. Он меня туда, собственно, и привел. Сначала мне дали балалайку-альт, которая просто вторит, а мелодия играется на балалайке-приме или на домре. И конечно, через какое-то время мне захотелось играть мелодию, и тогда я приобрел балалайку-приму. Я играю классику. И вот в армии я выиграл соревнование как солист-инструменталист. Один трофей был мне вручен Элвисом Пресли. Он был в армии в то же время, что и я. Когда объявили, что я стал победителем, выходя на сцену, я увидел, что с другой стороны навстречу мне поднимается Элвис и несет эту награду.
– Сам Элвис Пресли в этом соревновании не участвовал?
– Ему было категорически запрещено выступать, потому что это нарушало бы правила, но вручить первый приз солдатику ему позволили. Позже он пришел в клуб, где мы репетировали, чтобы посмотреть на мою балалайку. Вот такая у меня была встреча с Элвисом Пресли осенью 1958 года.
– А когда вы серьезно занялись фотографией?
– В 1971 году я открыл собственный бизнес, а до этого с 1962 по 1970 год я работал в самом большом фотомагазине в мире Peerless Photography. Точнее, это была сеть – пять магазинов, и я со временем стал одним из менеджеров этого магазина.
– Но ваш бизнес не был связан с магазином фототоваров, правильно я понимаю?
– Да. Тут опять я должен рассказать маленькую предысторию. В 1965 году на Бродвее известный режиссер и продюсер Джордж Эббот поставил мюзикл "Аня". Аня – сокращенное от Анастасия, и как вы уже, наверное, догадались, это была история младшей дочери Николая Второго. Эббот узнал, что я играю на балалайке, и пригласил меня в эту постановку. Спектакль шел по субботам и средам, и в будни я никак не мог уйти с работы. Тогда я пришел к хозяину фотомагазина и спросил: "Ты хотел бы два билета на бродвейское шоу?" – "Конечно, с удовольствием!" – ответил он. "Да, но я должен тебе кое-что сказать: я участвую в этой постановке". Он посмеялся и говорит: "Хорошо. Надеюсь, она не будет долго длиться". Увы, так и случилось. Постановку несправедливо раскритиковали, назвали ее отжившей, старой опереттой, и после двух месяцев на Бродвее спектакль "Аня" закрылся. Это было последнее выступление в театре Зигфилд (может быть, вы слышали про Зигфилд-герлз, они годами в этом театре выступали), после чего здание было разрушено, и сейчас на этом месте стоит небоскреб. Но актеры, участвовавшие в этой постановке, узнали, что я фотографирую, и попросили сделать их портреты для рекламы, для агентств. Между прочим, одной из актрис, которая играла главную роль, была Лилиан Гиш…
– Ничего себе! Это же актриса Гриффита!
– Да, в 1965 году она уже была в возрасте.
Я увидел надписи: "Happy birthday, Mike!". Но кто такой Майк, я узнал в последнюю минуту, когда мне сказали: "Сегодня 50-летие Майкла Дугласа"
– А как вы все-таки добились того, что стали известным фотографом?
– После восьми лет работы в магазине я решил открыть собственный небольшой бизнес в центре Нью-Йорка, на Колумбус-серкл. И начал делать фотографии для документов. Места хватало только для таких съемок. Но ко мне стали приходить молодые актеры, и поскольку Централ-парк был рядом, то на съемки я их водил туда. Потом, в 1982 году, президент Hearst Publication, с которым я подружился, сказал: "Вам нужно было бы открыть студию в нашем здании". Я говорю: "Помогите". В общем, через короткий срок я открыл большую студию в Hearst Publication, на углу 57-й улицы и 8-й авеню. И бизнес пошел очень хорошо. Так как вход был с улицы, у меня на витрине были портреты, главным образом черно-белые. Потому что для бизнеса нужны были черно-белые фотографии, размером 8 на 10, но для витрины я делал их 11 на 14. И многие известные лица из телевизионного мира стали приходить, а потом уже сами каналы присылали их ко мне. В свое время их портреты были на автобусах Нью-Йорка. Мэр Эд Коч тоже пришел фотографироваться, мы подружились, и когда он проезжал в своем лимузине мимо, останавливался на несколько минут, чтобы забежать и поболтать немножко. Среди тех, кого я фотографировал, было много знаменитостей: Джек Леммон, Энтони Перкинс, Питер Селлерс, Джина Лоллобриджида… Я могу этот список продолжить, у меня было более 19 тысяч имен тех, чьи портреты я снимал.
– Случались ли с этими знаменитостями какие-нибудь необычные истории?
– Однажды, уже в начале 90-х годов, раздался телефонный звонок из Голливуда: "Мы вам не скажем кого и не скажем точно, где вам предстоит снимать, только за полчаса до приема". Я пришел и увидел надписи: "Happy birthday, Mike!". Но кто такой Майк, я узнал в последнюю минуту, когда мне сказали: "Сегодня 50-летие Майкла Дугласа". Меня окружали Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис, Голди Хоун, Дэнни де Вито… К сожалению, все пленки я должен был сдавать, потому что была опасность, что они попадут в журналы, а ни одного фотографа, кроме меня, на некоторых мероприятиях не было. То же самое было, когда в течение 12 лет я фотографировал все вечеринки у самого богатого человека в мире в то время, саудовского миллиардера Аднана Хашогги (дяди убитого недавно по приказу из Эр-Рияда журналиста - РС). В конце вечера меня полностью обыскивали.
– То есть права вам не принадлежали?
– Нет! Меня нанимали, и мне платили за мои услуги. Поэтому у меня никогда не было выставки. Да, я имел право на некоторые фотографии мэра Коча и кинозвезд, которых я фотографировал, но меня просили не выставлять их.
– А какую из фотографий вы считаете самой большой своей удачей?
– Однажды пришел небольшого роста мужчина, и его окружали человек шесть. Он был сам адвокатом, и в его компании работало около 400 адвокатов по всей стране. Звали его Джексон Луис, ему было 97 лет. Слава богу, к тому времени я очень хорошо себя научился вести с такими людьми, которые были либо известные, либо очень важные. Я люблю их поддевать немножко. Люди из его окружения мне сказали: "Вы знаете, кто он?!" Я говорю: "Мне все равно. Он человек невысокого роста, – я при нем все это говорю довольно громко, – которого я нахожу довольно приятным". Ему так это понравилось! Потому что все подыгрывают с утра до вечера всю его жизнь, а здесь кто-то посмел так запросто пошутить. У него сразу глаза зажглись. Это был один из самых лучших портретов! И знаете, кого я еще любил фотографировать? Черных джазовых музыкантов. Потому что они такие, какие они есть, они не стараются показать вам свою лучшую сторону. Они такие милые, такие откровенные и одновременно такие талантливые! Я фотографировал русских епископов, когда Синод собирался. Это тоже было интересно.
– Что самое главное для фотографа, который делает портреты?
– Я всегда ловил энергию человека, которого я фотографировал. В этом случае невозможно промахнуться. Вы всегда получите нужный результат. Потому что вы берете энергию человека и возвращаете ее обратно.
– Как вы относитесь к слову фотогеничность?
– Вообще, знаете, когда говорят – человек нефотогеничный, это неправда. Вы смотрите сейчас на меня, и если бы я сделал вашу фотографию в эту секунду, вы бы лучше никогда не выглядели, потому что у вас глаза горят, вы со мной. Вот когда нужно нажимать на кнопку и фотографировать. Я позволю себе дать очень важный совет фотографам: "Никогда не оттягивайте нажатие кнопки".
– О чем вы больше всего жалеете в жизни?
– О том, что не получил в одной стране, на одном языке образование. Это самый большой мой недостаток… Вообще я много ошибок в жизни делал, был женат дважды, и это было не то, что нужно, поэтому у меня детей нет. Потому что я знал, что я не любил тех женщин, которые были в моей жизни, а этого недостаточно, чтобы иметь ребенка. Это откровенно.
– А во сколько лет вы женились на Ольге?
– Я встретил Олю, когда мне было 63 года. Мы познакомились в русском консульстве… Как это здорово, когда человек влюбляется! Я буду всегда благодарен судьбе за то, что Оля стала частью моей жизни и моей женой. Мы уже отпраздновали не так давно 20 лет совместной жизни.
– На каком языке вы думаете?
– Ха… Одно время, я помню, я начинал считать до двадцати по-русски, потом переходил на норвежский… Наверное, по-английски мне легче, я скорее нахожу те слова, которые где-то ищу, даже в русском языке.